Привозят розовую треску с Лофотенских островов в специальных цистернах в конце ноября, когда она самая нежная и изысканная на вкус. Для гурманов существует даже специальная служба заказа этой трески на дом. Причем вам привозят не рыбу из ресторана, а живую рыбу, которая живет своей жизнью внутри бочки с морской водой во время транспортировки.
Частенько в это время года можно наблюдать, как возле какого-нибудь дома стоит пузатая цистерна, а водитель выуживает из ее нутра трепыхающуюся рыбину и бережно передает в руки пританцовывающего от нетерпения заказчика.
Я и сама присутствовала при этом «действе», а потом наблюдала, как аккуратно мой знакомый художник разделывал еще трепещущую рыбу, доставал печенку и варил ее в специальной алюминиевой кастрюльке.

Надо сразу сказать, что вкус этой «печени трески» не идет ни в какое сравнение со всем нам знакомыми с детства советскими консервами!
Норвежцы настолько любят своего драгоценную треску, что даже не могут расстаться с ее... язычками. Специально нанятые работники (чаще всего студенты) прямо на рыболовецком судне вырезают у пойманных рыбин язычки, которые считают деликатесом, хотя лежащая на тарелка склизкая кучка непонятно чего у иностранца, не знающего толк в кулинарном искусстве, может вызвать в лучшем случае непонимание. Если же он отважится попробовать крохотные, величиной с ноготь языки, то и тогда не поймет, что именно вкусного находят в них, по той простой причине, что вкуса у тресковых язычков нет вообще.
Копченая, соленая, вяленая и вымоченная в щелоке рыба — традиционные составляющие норвежской кухни. Так, непременным блюдом на Рождество была и есть лютефиск — вымоченная в щелочном растворе вяленая на солнце рыба, которая по своей консистенции напоминает желе. У лютефиска специфический запах, и сами норвежцы до сих с ехидством смотрят на иностранцев, которые часто никак не могу отважится попробовать это «нечто», политое гороховым соусом и украшенное жареными ломтиками бекона. У меня оно не вызвало никаких сомнений и опасений, и, должна сказать, моя смелость была вознаграждена — вкус действительно отменный, а в глазах друзей-норвежцев я стала «своей».
Норвежская треска была одним из главных продуктов и источников дохода для северян со времен эпохи викингов. В Средние века рыба в больших количествах стала привозиться с Севера Норвегии в Берген и продаваться ганзейским купцам, которые, в свою очереди, снабжали ею всю Европу.
Везли ее, как правило, соленой, вымоченной в щелочи или сушеной. Само норвежское слово «torsk» восходит к древнескандинавскому глаголу «сушить» и связано этимологически с богом Тором (Тhor).
Треска встречается почти везде вдоль длинной береговой линии Норвегии. Она совсем не привередлива в еде, и, как считается, это одна из главных причин ее широкого распространения. Норвежцы с иронией замечаются, что треска думает только о двух вещах, пока плавает в зарослях водорослей, а именно — о еде и размножении.
Если она натыкается на место, где много еды, то там и «пасется», пока корм не закончится, а затем ищет новый ареал обитания, переходя на новые «пастбища». Треска — прожорливый хищник, который питается другими видами рыб, но не брезгует мидиями, ракообразными и морскими ежами.
В прежние времена, когда люди не могли доверять прогнозам погоды по радио и телевидению (хотя это вполне актуально и сегодня), они наблюдали за природой, которая помогала предсказывать им погоду. Так, на Севере было принято подвешивать сушеную треску к потолку.
Люди верили, что у рыбы есть врожденная способность поворачиваться против ветра и задолго до изменения погоды предсказывать приближение шторма. Но чтобы это сработало, треска должна была быть настоящей «королевской». Считалось, что это отдельный вид рыбы – она была настоящей королевой косяка со сплюснутой головой, как будто после надетой короны.
Сегодня мы знаем, что «королевская треска» — это совершенно обычная треска с деформацией головы, которая придает рыбе странный вид. Если вы поймали «королевскую треску» и решили использовать ее в качестве «оракула», то нужно ее выпотрошить и почистить, голову оставить. Когда она высохнет, ее следует подвесить к потолку на тонкой нити, прикрепленной к переднему спинному плавнику – и вуаля, теперь остается только следить, как она будет поворачиваться.
Когда рыбаки отправлялись на ловлю рыбы вдалеке от дома, они обязательно прихватывали с собой такую «королевскую треску», которая могла не только предсказывать погоду, но и приносить удачу. Например, если рыбак вылавливал «королевскую треску», ему была гарантирована удача в море, в торговле и продаже рыбы до конца жизни.
С треской вообще связано несметное количество примет и суеверий. Так, с помощью «слуховой косточки» (отолита) можно было «погадать» и получить ответ о том, какая будет погода: большая сторона отолита отвечала вопрошающему «да», меньшая — «нет». Надо было просто спросить, какая будет погода, и подбросить кость в воздух.
Норвежские рыбаки свято верят, что важно не называть во время рыбалки треску ее настоящим «именем» — torsk, потому что рыба может услышать, что вы охотитесь именно на нее, и не будет клевать. В норвежской области Вестре-Моланде люди говорят «Теперь у тебя есть дедушка», когда треска первый раз клюнула.
Если же вы отправляетесь на рыбалку прямо перед Новым годом, то очень важно поймать первой треску, потому что тогда у вас весь год будет хороший улов. Но если вы сначала поймали пикшу или другую «мелкую» рыбу, то лучше вообще отказаться от рыбалки в этом году.
Если треска клюет медленно, надо произнести специальный заговор: «Приходи, треска серая, и держись, и плыви ко мне, треска белая, быстрее клюй». А, забрасывая удочку, необходимо сказать: «Перережу шею большой рыбе!» — и не забыть трижды плюнуть на крючок. К вопросу о плевках: если во время рыбалки внезапно налетел шторм, бурю, по верованиям новежцев, можно прекратить плевков против ветра (однако сначала подумайте, так ли это безопасно).

Каждый, кто ловил треску, знает, что в желудке рыбы можно найти белую плоскую «нить», которая называется по-норвежски «нитью сидения», а на самом деле — это солитер. Эта «нить», естественно, эластична. И норвежские рыбаки в старые времена заметили, что ее концы при растяжении и сжимании сокращаются неодинаково, чем пользовались для определения места большого улова. Так, сжимающийся больше конец «нити» показывал, где собрался большой ее косяк.
Хотя треска была известна в Норвегии от сотворения мира, она вовсе не была изначально распространена в Европе как еда. И часто вызывала даже скепсис. На церковном соборе в 1551 году в итальянском Тренто, на который приехало духовенство со всей Европы, принимающий гостей архиепископ Адольф, в надежде порадовать собрание, приказал поварам приготовить различные блюда из трески. Однако священники отказались от незнакомой еды, и только несколько итальянских епископов осмелились попробовать яства.
Согласно Аристотелю, треска родилась с камнем в голове, и ей приходилось бороться за жизнь усерднее, чем другим рыбам, ибо зимой камень становился ледяным. И чтобы не замерзнуть насмерть, треске приходилось уходить на глубину.
Еще одна «страшилка» связана с нахождением в ее желудке человеческих останков. Норвежская легенда гласит, что в старые времена трупы часто выбрасывало на песчаный берег залива Баллесвик, и темными штормовыми ночами обитатели расположенной неподалеку рыбацкой деревни слышали ужасающие крики. Они раздавались где-то вдалеке у самой кромки, а затем приближались все ближе и ближе к деревне, а затем снова удалялись к морю.
Рыбаки просто говорили: «Это не опасно, это просто Ханс Адриан бродит по побережью». Они знали, что когда-то давным-давно один старик нашел человеческие кости в желудке большой трески и бросил их в лодочном сарае, а на следующий день услышал, как они жалобно стонут в эллинге.
Тогда старик завернул страшную находку в рыбий желудок и закопал. С тех пор в окрестностях деревушки раздавались жуткие крики. Но Ханс Андриан зла никому не причинял.
Однако вернемся к треске, печень которой была всегда востребована на Севере. Из нее производили рыбьего жира для обработки кожаных изделий. И из него же делали ламповое масло. Но всё это было до того, как люди узнали о пользе рыбьего жира для здоровья человека. В 1775 году было установлено, что его можно использовать в качестве лекарства, и с 1825 года он стал использоваться во многих странах Европы.
Сушеная желчь трески хранилась в ее чистых желудках и была лекарством и для самого человека, и для животных при желудочных заболеваниях.
Самое удивительное, что в Средние века норвежская треска говорила на «баскском языке», которого никто не знал, кроме басков, живущих в северо-западной Испании. Они на протяжении многих столетий продавали ее по всему миру в виде высушенного и соленого «полуфабриката». При этом довольно долгое время было неясно, где они ловили треску. однако в 1497 году путешественник Джон Кабот обнаружил, что возле Ньюфаундленда «пасутся» сотни баскских рыболовецких судов, добывая в тайне треску.
Марк Курландски в книге «Треска — биография рыбы, которая изменила мир» пишет:
«Мясо трески практически лишено жира (0,3%), и в нем содержится более 18% белка, что необычайно много даже для рыбы. А когда треску высушивают, за счет испарения воды она теряет 80% веса и превращается в концентрированный белок – его содержание составляет почти 80%.

От трески практически не остается отходов. Голова рыбы вкуснее тела, особенно мясистая часть нижней челюсти, которую называют языком, и маленькие диски мяса по бокам – щеки. Плавательный пузырь, регулирующий глубину погружения рыбы, используется для получения рыбьего клея, который применяется в промышленности в качестве осветлителя или для столярных работ.
Народы, традиционно добывающие треску, употребляют плавательный пузырь в пищу — его жарят, тушат или добавляют в похлебку. Едят также икру, свежую или копченую. Рыбаки с Ньюфаундленда ценят гонаду у самок трески — раздвоенный орган, который называют «штанами», поскольку формой он напоминает брюки.
Эти «штаны» жарят, как и плавательный пузырь. Исландцы и японцы едят молоки трески. Желудок, требуха, печень — все это тоже идет в пищу, а жир, добываемый из печени, вдобавок богат витаминами.
Исландцы начиняют желудки трески печенью и варят, пока они не станут мягкими, а затем едят, как колбасу. <…> Кожу трески употребляют в пищу или выделывают для пошива различных изделий. Исландцы жарят ее и подают с маслом в качестве угощения детям. Несъедобные внутренности и кости служат превосходным удобрением; впрочем, вплоть до XX века жители Исландии размачивали кости в кислом молоке и тоже ели».
В Средние века треска «прославилась» благодаря введению католической церковью поста, А к XVI веку приобрела международное политическое значение. На ее добычу в прибрежных водах Норвегии и Исландии претендовали попеременно Англия, Франция, Португалия и Испания.
История знает несколько «тресковых войн». Так, спор о рыболовных угодьях в Атлантике между Англией и Францией стал одной из причин Столетней войны (1337—1453). Настоящая тресковая война началась в 1532 году между Англией и Ганзейским союзом, когда в Исландии был убит английский рыбак.
Однако название «Тресковые войны» ассоциируются, прежде всего, с Исландией и Англией, и конфликтом 1958—1976 годов, причиной которого были права на вылов рыбы в Северной Атлантике.
В Первую тресковую войну Исландия расширила исключительную рыболовную зону с 4 до 12 морских миль. Британия отказалась признать новые границы, направив военные корабли для защиты своих траулеров. Конфликт завершился временным соглашением.
Однако во времена Второй войны (1972—1973) Исландия увеличила зону до 50 миль, введя запрет на использование траловых сетей. Столкновения участились: исландские катера перерезали сети британских судов, а те отвечали таранами. В ситуацию даже вмешался НАТО, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
Самой опасной стала Третья война (1975—1976), когда Исландия установила 200-мильную зону, а её береговая охрана использовала специальные «кусачки для сетей», которые буквально разрезали британские тралы. Это стало символом «войны» и эффективной тактикой давления. Однако под угрозой выхода Исландии из НАТО Великбритания уступила.
Тресковые конфликты происходили и в Норвегии и связаны с борьбой за рыбные ресурсы в Баренцевом море и вокруг Шпицбергена. Так, в 1920-х годах возникли норвежско-российские споры, когда норвежские рыбаки незаконно занимались промыслом у Новой Земли, игнорируя суверенитет РСФСР.
В 1990-х годах Исландия оспорила исключительные права Норвегии на рыболовство в 200-мильной зоне Шпицбергена, ссылаясь на Парижский договор 1920 года. В 1994—1996 годах норвежская береговая охрана задерживала исландские траулеры, а Исландия угрожала начать вооруженный конфликт, однако в 1999 году Россией, Норвегией и Исландией было подписано соглашение о квотах на вылов.
Новый виток «тресковой напряженности» между Норвегией и ЕС приходится на 2021 —2025 годы, когда после Brexit ЕС перераспределил рыболовные квоты, что Норвегия сочла нарушением своих прав. В 2021 году Осло пригрозил арестами судов ЕС у Шпицбергена.
К 2025 году конфликт обострился: Норвегия ужесточила контроль за судами ЕС и России, введя жёсткий мониторинг портов. Норвежская сторона ограничивает лов в своей экономической зоне, аргументируя это защитой молоди трески. По данным 2025 года, до 90% молодой рыбы обитает в российской зоне, но мигрирует к норвежским Лофотенам для нереста, что стало причиной давления на российские суда отказаться от лова рыбы.
Треска остаётся экономически значимым ресурсом. Для Норвегии рыболовство обеспечивает 5% ВВП и 10% экспорта, а для ЕС — критически важно для портовых городов.

Конфликт из-за трески в Арктике связан со стратегическими интересами ключевых игроков региона, которые выходят за рамки рыболовства и затрагивают вопросы геополитики. Таяние льдов к 2025 году увеличило пропускную способность Северного морского пути (СМП) на 45%, сделав его потенциальной альтернативой Суэцкому каналу, а контроль над рыболовством усиливает позиции в спорах о юрисдикции над СМП.
За «рыбными» разногласиями скрывается борьба за переформатирование арктического ландшафта в условиях климатических изменений и геополитической перестройки.









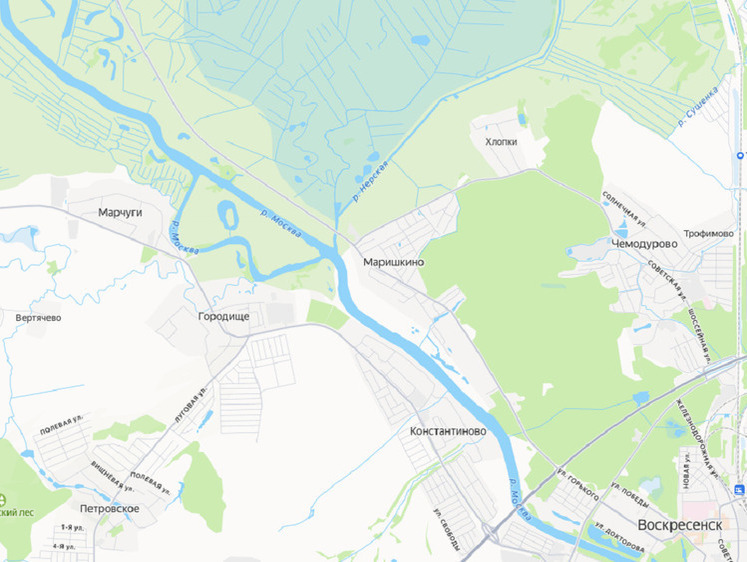




Комментарии (0)